Акрам Юсупов
 Когда спрашивают, сколько мне лет, отвечаю: я — ровесник первой русской Революции. И не потому только, что 1905-й год стоит в моем паспорте. А потому, что без русской Революции, без победы Великого Октября не существовал бы народный артист Узбекистана Акрам Юсупов.
Когда спрашивают, сколько мне лет, отвечаю: я — ровесник первой русской Революции. И не потому только, что 1905-й год стоит в моем паспорте. А потому, что без русской Революции, без победы Великого Октября не существовал бы народный артист Узбекистана Акрам Юсупов.
Как бы сложилась моя жизнь, если бы не Советская власть? Не знаю. Скорее всего, ходил бы до сих пор с группой бродячих канатоходцев из кишлака в кишлак, живя на скудные подаяния бедняков, как жили и до меня поколения артистов из народа. А может быть, и вообще не дожил бы до седины — ведь узбекские канатоходцы всегда работали на высоте двадцать-двад-цать пять метров, не имея и понятия о страховке, о лонжах. Недаром в дословном переводе слово «дорвоз» (канатоходец) означает «игра с виселицей». На моих глазах, помню, сорвался с каната и разбился мой дядя Хатам Мадалиев. Весь изувеченный, он чудом остался в живых. А было это не так уж и давно — в начале двадцатых годов в городе Беговат, когда там хозяйничали басмачи. Именно они заставляли нас делать особо опасные трюки...
В шесть лет я впервые встал на канат. И поставила меня туда беспросветная нищета семьи. Попробуй прокорми девять душ детей, даже если ты пекарь. С утра до ночи бегали мы, малыши, по улицам родной, но неласковой к нам Кувы, продавая испеченный отцом лаваш. Так нас и называли — двуногие лавчонки. Где тут было думать об учебе? Правда, один раз отвели меня в медресе. Но коран пополам с побоями муллы пришлись мне не по душе. Так что, если бы не Советская власть, при которой научился я грамоте и другим школьным премудростям, пришлось бы мне в анкетах на вопрос об образовании писать: три дня. И вот, чтобы облегчить участь семьи, дядя Хатам, работавший в группе канатоходцев, предложил моему отцу отдать одного мальчика ему в помощники. Выбор пал на меня. Так в 1911 году началась моя биография артиста...
Цирковое искусство — это прежде всего народное искусство. Может быть высокий купол, много артистов, громкая музыка и яркие костюмы, но большой радости ни для кого не получится. Потому что настоящий манеж — тот, что детям запоминается до старости, а взрослым напоминает о детстве, — этот манеж всегда стоит на родной почве. Вот так и мы круг в тринадцать метров диаметром считаем кусочком родной узбекской земли, где бы мы ни выступали, как поется в замечательной песне, от Москвы до самых до окраин.
Откуда пошли узбекские канатоходцы — никто точно не знает. Есть легенда, что когда-то одно из древних среднеазиатских племен осадило неприступную вражескую крепость. Взять ее в сражении было невозможно. Тогда самый смелый и прекрасный юноша вызвался один победить врагов. Он проник в крепость и сказал, что он — странствующий артист и может ходить по канату, натянутому на любой высоте. Ему не поверили. Тогда он предложил протянуть канат с крепостной стены до верхушки дворца, в котором жил предводитель неприятельского войска.
— Хорошо, — сказали ему, — иди! Но знай, что на земле тебя ждет смерть.
И смельчак пошел. Он попросил только для равновесия пику (предок нашего баланса), а к ногам привязал два меча. Все войско врага собралось, чтобы посмотреть на неслыханное чудо. А юноша, балагуря и веселя собравшихся, легко добрался по канату до дворца, спрыгнул прямо в покои предводителя и сразил его в поединке. Пораженное отвагой и ловкостью пришельца, войско сдалось ему... Что в этой легенде правда и что выдумка — сказать сегодня никто не возьмется. Известно только, что уже много-много веков канатоходцы — непременные участники всех народных праздников-саилов. А еще точнее, где канатоходцы — там и саил.
Вспоминаю я, как в сэром, дореволюционном Узбекистане, да и в первые годы Советской власти, когда еще сильны были старые обычаи, хозяин большой чайханы или несколько чайханщиков поменьше приглашали дорвозов для привлечения публики. За еду и питье да за кое-какую мелочь мы должны были развлекать и веселить гостей. Неделю или две работали на одном месте, а потом складывали свое немудреное имущество, главное богатство которого составлял обыкновенный канат в семь ниток (о стальном канате мы тогда и понятия не имели), и тащились на арбе до следующего кишлака или затерявшегося в песках городка. Иногда вместе с канатоходцами выступали и джигиты. Во время переездов чистокровные рысаки превращались в ломовых лошадей.
Интересно, что в Ташкенте с 1914 года существовал стационарный цирк Юпатова. Там выступали все — вплоть до французов и итальянцев. Не было только на манеже ташкентского цирка узбекских артистов... У советских людей есть замечательное выражение: лампочка Ильича. Это — как начало новой жизни. Вот такая лампочка зажглась для нас, узбекских артистов, в 1930 году, когда в Ташкенте было создано государственное объединение УзГОМЭЦ. Отныне мы уже не зависели от прихотей и своеволия хозяина чайханы, и не надо было ходить по базару с шапкой по кругу, прежде чем начать выступление.
Советская власть планировала наши гастроли и обеспечивала их всем необходимым, она думала и заботилась о нас так же, как о строителях Ферганского канала, о рабочих новых заводов и фабрик. И с какой радостью выступали мы на новостройках Средней Азии перед узбеками, таджиками, русскими, украинцами, армянами — перед людьми всех народов, потому что представители всех советских народов были в те годы на стройках Средней Азии.
К тому времени уже сложились аттракционы Ташкенбаевых, Ходжаевых, Зариновых й других узбекских цирковых артистов. Правда, наши канатоходцы, джигиты, вольтижеры, акробаты работали в старинной манере: ведь до 1935 года никто из нас не выезжал за пределы родного края. И когда приехавший в Ташкент представитель Управления цирков предложил главе крупнейшего узбекского аттракциона дедушке Ташкенбаю совершить гастрольную поездку по центральным городам России — тот вначале отказался. Да и как ему было не отказаться? Опытный и мудрый человек (он умер несколько лет назад, не дожив всего три года до своего столетия), великолепный канатоходец, хороший организатор, старший Ташкенбаев был совершенно неграмотным человеком. И все-таки после долгих размышлений и советов решил — едем! Но только на два месяца...
Два месяца обернулись двумя годами, а затем и десятилетиями. Я, например, с 1937 года объездил уже всю нашу Родину. И, наверное, нет такого сколько-нибудь крупного города, где бы ни висела афиша, извещающая о выступлениях артистов узбекского цирка. Я вспоминаю свою самую первую гастрольную поездку. Осенью мы ехали в Красноярск. Однажды утром мы поглядели в окно поезда и увидели вокруг белые поля. «Смотрите, — сказал кто-то, — какой поздний русский хлопок, его еще даже не убирают...» А на вокзале, спасая нас от «позднего хлопка», встречали русские друзья с шубами и ушанками: ведь ехали мы в шелковых халатах и тюбетейках. Многие из нас тогда впервые так близко увидели снег...
Не одну цирковую профессию перепробовал я на своем веку. Ходил по канату, крутился на трапеции, был и акробатом, и наездником, и коверным. И всегда мне помогали мои друзья — лучшие артисты и режиссеры русского советского цирка. С 1951 года я выступаю только как коверный. Вкус к этой нелегкой и такой прекрасной профессии привил мне клоун Павел Ульянов (Папсик), в паре с которым я и сегодня выхожу на манеж. А как много дало мне знакомство с замечательным комиком Константином Берманом. Работая с ним на московском и других манежах, я учился искусству не только смешить людей, но и воспитывать их, нести им хорошие, большие мысли.
И что еще замечательно в нашем искусстве, в нашей дружбе — это бережное, любовное отношение к национальным традициям и обычаям. Тот, кто видел аттракцион «Под небом Ташкента» в исполнении труппы Ташкенбаевых, смог убедиться, как умело сочетаются в нем самая высокая современная цирковая техника с извечными традициями народа. И дело не только в том, что артисты выступают в национальных костюмах и звучит узбекская музыка. Сохранен весь дух саила. Тут и мой выезд на ишаке в образе современного Насреддина; тут и озорное соревнование молодежи в искусстве ходить по канату; тут и непременный участник Празднеств, веселый балагур, будто впервые и совершенно случайно очутившийся на такой высоте.
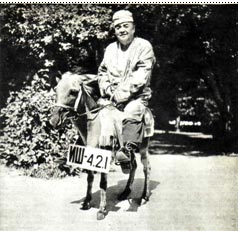 Народный артист Узбекской ССР АКРАМ ЮСУПОВ
Народный артист Узбекской ССР АКРАМ ЮСУПОВ
Когда-то в этой роли прославился дедушка Ташкенбай. Сегодня радость зрителям несет его сын, народный артист Узбекской республики Абиджан Ташкенбаев. Вот он выходит из форганга, и перед ним — словно не манеж, а старинный восточный базар, где его друзья дают веселое представление на канате. И сам он забирается на канат, не только показывая высокое мастерство, но и веселя народ шутками и прибаутками. Но это не старые анекдоты. Это меткие стрелы, которые летят сверху — то в бюрократов, то в мещан, то в стиляг...
К чему я это все говорю? А к тому, что мастера сегодняшнего узбекского цирка, как и артисты любого другого национального цирка нашей Родины, сохранив все самое лучшее, самое яркое, что было в старом народном искусстве, приобрели высокое современное мастерство. Советский цирк, как теперь принято говорить, работает на мировом уровне. И разве случайно, что зарубежные гастроли национальных цирков проходят с таким успехом!
Перед моими глазами прошло несколько поколений узбекских цирковых артистов. В наши дни на манеже, к примеру, выступает уже четвертое поколение Ташкенбавых. И как разительно не похожа судьба неграмотного родоначальника цирковой династии на судьбу его наследников — культурных, образованных людей, многие из которых имеют дипломы, высокие звания, правительственные награды. Только народных артистов республики сегодня в узбекском цирке — шестеро! А сколько новых мастеров манежа появится завтра, послезавтра, когда войдет в строй новый чудесный Ташкентский цирк, когда будет открыта узбекская национальная студия циркового искусства!
Недавно у нас состоялась дружеская беседа артистов цирка с первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Узбекистана Шарафом Рашидовым. О многом и разном говорили мы — и о развитии нашего искусства, и о подготовке смены, и о бытовом устройстве... Говорили долго, откровенно, прекрасно понимая друг друга. И я думаю, именно в этом наша сила: в том, что все мы, советские люди — шахтеры и министры, хлопкоробы и партийные работники, педагоги и артисты — все мы члены единой большой семьи, полновластные хозяева своей Родины, своей судьбы, своего счастья. Такого не было и не могло быть в дни далекой юности дедушки Ташкенбая, как не было и не могло быть тогда сына узбекского пекаря Акрама Юсупова, носящего почетное звание народного артиста своей республики...
Вот почему я говорю, что моя жизнь, жизнь моего родного народа неразрывно связаны с первой русской Революцией и с победой Великого Октября.
Журнал Советская эстрада и цирк. Ноябрь 1968 г.
оставить комментарий
