Мемуары на листках блокнота – 3. Л. Дикуль
САЛЮТ СМЕЛЫМ
 Бомж – новое слово в лексиконе моих сограждан и означает оно «лицо без определенного места жительства». Слово – новое, но понятие это мне было родным с самого рождения, ибо все мы: отец, мама, я – впрочем, как и многие-многие другие цирковые люди, были по сути своей бомжами. В пятьдесят каком-то году вызывают отца в районное отделение милиции.
Бомж – новое слово в лексиконе моих сограждан и означает оно «лицо без определенного места жительства». Слово – новое, но понятие это мне было родным с самого рождения, ибо все мы: отец, мама, я – впрочем, как и многие-многие другие цирковые люди, были по сути своей бомжами. В пятьдесят каком-то году вызывают отца в районное отделение милиции.
- Ваш паспорт недействителен, - заявляет отцу милицейский чин. – Платите штраф.
- Как это – недействителен? – возмущается отец. – Почему?
- У вас нет штампа о постоянной прописке, значит, паспорт – недействителен, – грозно говорит милиционер.
- Так у меня постоянного места жительства нет, потому и штамп отсутствует, – объясняет папа.
Но где-то вы живете?
- Разумеется, живем: вчера – в Брянске, сегодня – у вас, словом, где гастролируем, там и живем, – терпеливо растолковывает папа образ жизни циркового артиста.
- Ну, а где ваша семья в это время находится? – пытается уличить в неточности информации милицейский чиновник.
- И семья со мной кочует по всем городам и весям.
- А вещи?
- Вещи, разумеется, тоже со мной. «Все свое ношу с собой», - шутит отец. Но милиционеру не до шуток.
- Так не бывает, чтобы совсем не иметь прописки. Каждый советский человек должен быть где-то прописан. У меня в Правилах сказано: «без штампа о прописке паспорт – недействителен»! Значит, ваш паспорт – недействителен, платите штраф, а то я вас вообще отсюда не выпущу до выяснения вашей подозрительной личности!
Вот такая история – хоть смейся, хоть плачь!
И лишь в сорокавосьмилетнем возрасте папа перестал дразнить милицейских начальников, получив, наконец, штамп о постоянной пензенской прописке.
Тем не менее, и тут не обошлось без курьеза. По случаю какого-то государственного праздника, в надежде на награду, хитрый пензенский директор цирка отрапортовал в Москву о досрочной сдаче в эксплуатацию дома для артистов. Как многолетнему очереднику отцу предложили квартиру в этом доме. Радостные, мы приехали получать ордер.
- Знаете, Михаил Ефимович, тут неожиданно выявились кое-какие недоделки, – проникновенным голосом вещал директор цирка. – Вы поживите пока в переселенческом доме, но мебель не покупайте, это всего на 2-3 месяца, а потом переедете в отдельную прекрасную квартиру – пусть чуть позже, зато уж без всяких недоделок.
Наивный папа! Разве мог он предположить, что его новый дом существует только в воображении афериста-директора!
Лишь через три года мы выехали, слава богу, из пензенской коммуналки для переселенцев, имея на руках ордер на отдельную двухкомнатную квартиру в …Горьком.
Наш небольшой скарб уместился в один контейнер, а главное достояние семьи – черно-белый телевизор на тоненьких ножках «Чайка» (кстати говоря, горьковского производства) вместе с нами поехал на свою историческую родину.
Квартира в панельной пятиэтажке показалась нам ошеломляющее прекрасной. Мама, к сожалению, не могла разделить с нами наш новосельский восторг, так как осталась ухаживать за голубями в Иркутске.
Сто раз обойдя наши роскошные «апартаменты», погладив свежевыкрашенные стены кухни, мы включили «Чайку» в розетку, расстелили на полу газеты и уселись пировать. Потом к нашему «столу» присоединились два мужика, заглянувшие на огонек. Мужики оказались слесарями-сантехниками.
«Живой артист», которого видели впервые так близко, произвел на них такое неизгладимое впечатление («Нет, это только настоящий артист может придумать праздновать новоселье на газете!»), что наши гости, явившись на следующее утро с инструментами и разными причиндалами, по собственному почину, совершенно бесплатно прикрутили нам все почему-то отсутствовавшие краны и даже заменили треснувшую раковину.
Так мы стали полноправными гражданами СССР, жителями славного города Горький.
Получив контейнер с вещами, мы с большим сожалением закрыли нашу квартиру и уехали к маме в Иркутск.
Однако вскоре нам представилась прекрасная возможность пожить дома достаточно долго.
Приближалось 100-летие со дня рождения В.И.Ленина. К этому событию готовилась вся страна (во всяком случае, так писали в газетах), – разумеется, не остался в стороне и Союзгосцирк: решено было создать на базе Горьковского цирка грандиозную цирковую пантомиму «Салют смелым», в основу сюжета которой были положены реальные исторические события, происшедшие с красногвардейским кораблем «Волгарь-доброволец».
В вольном цирковом изложении это выглядело так.
Маленький безоружный корабль «Агитармеец» встречается в пути с хорошо оснащенным белогвардейским кораблем. Казалось, гибель «Агиармейца» предрешена, но капитан остроумно предлагает выдать красный корабль за плавающий кафешантан. Синеблузники переодеваются в имеющиеся для постановок о буржуйской жизни театральные костюмы и приглашают на борт белых офицеров, которых развлекают по полной программе: с цыганским хором, плясками, факирскими чудесами и тому подобными номерами. К белогвардейцам присоединяются и случайные анархисты. Пока «дамы» усиленно спаивают офицеров и анархистов, факир, исполняя у столиков веселые фокусы, заменяет боевое офицерское оружие – на бутафорское, стреляющее водой; так вот, пока все это происходит, посланец большевиков умело агитирует белых солдат, и те поднимают восстание на своем корабле. Завершалось действо колоссальной дракой, гибелью главной героини, пленением белых офицеров и нашей полной победой.
Костяком коллектива стали участники другой пантомимы – «Пароход идет Анюта», среди которых было немало талантливых исполнителей характерных ролей. Осуществлял постановку опытный режиссер Евгений Арсеньевич Рябчуков, оформил цирковой спектакль замечательный художник Александр Павлович Фальковский.

Вообще «пантомима» – термин для цирка условный, т.к. сюжет раскрывается средствами цирковой и театральной выразительности, включая диалоги и монологи.
Артисты по-разному относятся к участию в таких театрализованных спектаклях, но для меня лично и для девочек из балета это было настоящим университетом.
Из нас, вчерашних школьниц, тщательно лепили артисток и режиссеры (особенно Юрий Владимирович Свирелин), и балетмейстеры; акробаты обучали акробатике, жонглеры – жонглированию, а все вместе – актерскому образу жизни. Застав нас в буфете за поеданием пирожных, наш строгий балетмейстер Иван Васильевич Курилов говорил ласковым голосом:
- Ешьте, девочки, ешьте. Пирожное – две минуты во рту, пять минут – в желудке, и на всю жизнь – в бедрах!
Нас, пухленьких, тут же ветром выметало из буфета.
На представлении мы очень старались, иногда даже – слишком.
Однажды балерина, исполнявшая роль «дамы за столиком», во время драки так огрела по голове главного анархиста, что тот буквально обвис на руках утаскивавших его матросиков. Оказалось, что «дама», войдя в раж, схватила вместо поролоновой – деревянную бутылку, отчего удар ее имел столь натуральные последствия.
Самыми интересными, на мой взгляд, сценами в спектакле были две: репетиция «Синей блузы» и выступление в кафешантане.
«Синяя блуза» - это распространенный в 20-30 годах жанр агитационно-эстрадных выступлений, выросший из самодеятельной «живой газеты». Наша «Синяя блуза» была решена по-цирковому броско. Пока синеблузнеца пела частушки о том, как под ударами Красной армии летели Врангель, Деникин, Колчак, ребята из номера Владимира Вольного в огромных, карикатурно, но вполне узнаваемо сделанных бутафорских головах, отбиваемые с подкидной доски, совершали акробатические трюки, изображая, как именно кувырком летели их персонажи.
Ну, а кафешантанную программу вполне можно было бы сейчас показывать в любом ночном баре, и она имела бы успех.
Всякая премьера – трепетный момент для артистов, но зрители, заполнившие первый ряд горьковского цирка осенью 1969 года, волновались не менее исполнителей: эти убеленные сединами, принаряженные по такому торжественными поводу старики пришли на встречу со своей боевой молодостью. Последние живые участники гражданской войны, плававшие на корабле «Волгарь-доброволец».
Наш корабль пропутешествовал по манежам цирков два года, растеряв по дороге своих лучших исполнителей, обретя взамен балласт из нетрудоустроенных артистов, способных лишь посидеть в офицерском мундире за столиками, и закончил свое существование довольно бесславно и тихо.
А настоящий «Волгарь-доброволец и сейчас возвышается на гранитном постаменте Чкаловской набережной Волги и напоминает нижегородцам о грозовых событиях не столь давно минувших дней, отношение к которым в нашей стране хоть и изменилось, но забывать о которых не стоит никогда. Это же история.
ЗЕЛЕНАЯ БОРОДА
На одной из афиш, рекламирующих «Салют смелым», был изображен фрагмент нашего факирского номера. И это не случайно, ибо «факирский» кусочек пантомимы был очень красив. Художница Марина Зайцева придумала веселые и красочные костюмы и факиру, и окружающим его помощницам-баядеркам.
Факир (его роль исполнял мой отец) выходил в роскошной чалме, очень шедшей к его южному типу лица, малиновом халате и зеленых шароварах, богато украшенных золотом. Факир поедал огонь, закусывал ватой, а затем долго и с удовольствием пускал изо рта дым и горящие искры, вытаскивал бесконечно длинные яркие цветные ленты. Трюк этот называется «китайская печка».
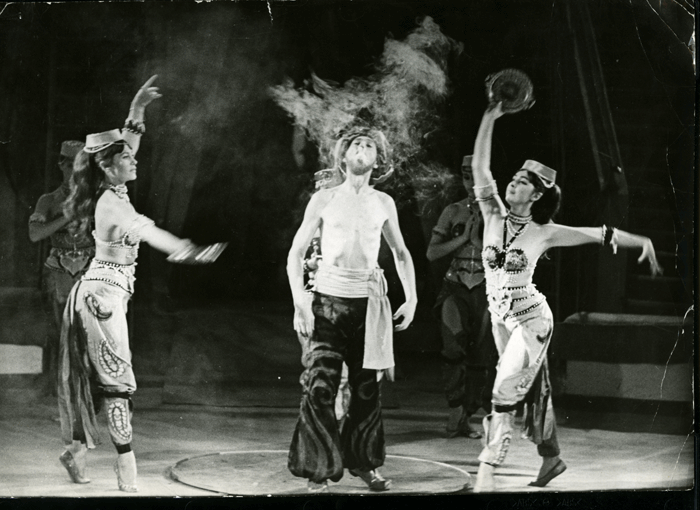
Настоящий факир, по нашему убеждению, непременно должен быть с бородой. Но клеить, а после выступления отрывать от лица бороду по три раза в день (в воскресенье – три представления) довольно болезненное и неприятное занятие. Поэтому папа решил отрастить натуральную бороду. За время переезда из города в город борода выросла, но оказалась… седой. Тогда на семейном совете решено было бороду выкрасить.
Свою седину мама успешно окрашивала хной и басмой, но с хной в нашей торговле наступили очередные перебои и, посовещавшись, мы с мамой решили, что такой дамский дефицит переводить на мужчину – грех. В общем, намазали бороду одной басмой, укутали теплым платком, ждем положенное время.
Сняли платок – вроде ничего, вполне черная борода.
Смыли водой – вот это фокус! Вместо факира перед нами предстал настоящий водяной с… изумрудно-зеленой бородой!
Сначала мы с мамой хохотали, потом, когда отец подошел к зеркалу…
Мораль: не экономь на муже – себе дороже обойдется.
ЧП
Смею утверждать, что самая замечательная гардеробная была наша. Нет, помещение ничем не отличалось, но какие люди населяли его! Дядя Саша Одесский, дядя Яша Гиндин и мой папа. Я переодевалась за кофром, исполнявшим роль ширмы, и – слушала, слушала, слушала…
Никто лучше евреев не расскажет еврейский анекдот, здесь же они сыпались как из рога изобилия.
Никаких проповедей об отношении к актерской профессии, но каждый старался исподволь, умно, тонко и как бы шутя, наставить меня на путь истинный. Да никакие особые слова и не нужны, достаточно было видеть, как сами корифеи готовятся к каждому представлению. Собирались все задолго до начала, а к первому звонку уже были одеты и загримированы. Получалась довольно пестрая компания: дядя Саша – в костюме капитана красноармейского корабля, дядя Яша – в образе анархиста и папа – синеблузник-художник.
Но однажды в Ижевске случилось ЧП.
Дядя Саша открывал представление и затем вел всю пантомиму. Без него спектакль рушился. Без него нельзя, а его не было даже к первому звонку. Вот уже и второй пора бы давать, а его все не видно. За кулисами – паника, наконец, влетает запыхавшийся Одесский, молниеносно переодевается и, не успев отдышаться, начинает представление.
А произошло вот что.
- Еду я в троллейбусе из гостиницы в цирк, – рассказывал дядя Саша в антракте. – Вы же знаете, что у меня две слабости: длинные волосы у женщин и беременные женщины. И вдруг входит беременная с длинными волосами! А народу в троллейбусе полно, и все новые пассажиры входят и входят. Тесно, толкаются, а ну как ее толкнут! Встал я рядом (а роста дядя Саша был отменного, да и комплекция ничего себе) – встал я так, чтобы ее не задели, и оберегаю.
Ехали долго, потом она вышла, а я – за ней. Опомнился только на остановке. Куда заехал – понятия не имею. Глянул на часы – двадцать минут седьмого.
И – ни одного такси. Насилу уговорил какого-то частника. Хорошо, что он оказался любителем цирка, а не беременных с длинными волосами!
ХОЛЕРА
Жарким, ох, каким жарким летом 1970 года наш цирковой коллектив «Салют смелым» закончил свои гастроли в Астрахани и уже сидел на чемоданах, как грянула новость: холера!
Первые случаи заболевания обнаружились где-то в астраханских деревнях, и правильный диагноз был поставлен слишком поздно, так как врачи и думать забыли о существовании такой страшной болезни.
Как водится, поднялась паника.
По городу разъезжали грузовики, в которых сидели медики в белых балахонах, напоминавших ку-клукс-клановские капюшонами и прорезями для глаз.
Все увеселительно-зрелищное спешно закрыли, потом все же открыли, но по радио перед началом сеанса в кинотеатре или циркового представления диктор (видимо, чтобы жить было веселей!) предостерегал об особой опасности заражения, поджидающей зрителей, посмевших явиться в место повышенного скопления народу.
К счастью, вскоре прилетело медицинское светило из Москвы и наводивший ужас на всех жителей «ку-клукс-клан» отменили.
У всякой медали есть и оборотная, порою даже приятная, сторона: ввиду запрета на вывоз овощей, арбузов и прочей снеди астраханский базар поражал сказочным изобилием и сногсшибательной дешевизной. Вечером же продавцы просто умоляли купить у них помидоры «бычье сердце» размером с детскую голову – всего по 20 копеек за килограмм.
В самой Астрахани заболевших было не много, но в эту печальную статистику вляпался и один артист – Александр Морозовский. Его забрали в больницу, а наша гостиница и цирк подверглись жуткой дезинфекции. Шутки за кулисами приобрели несколько садистко-мазохисткий характер, так как все гадали, кто будет следующим за Сашей, но обошлось – продолжения не последовало. Кстати, сам Саша вышел из больницы посвежевшим и помолодевшим:
- Я еще ни разу в жизни так не отдыхал и не отсыпался, – рассказывал он.
Спастись от жары можно было только под душем. Расплата за сие удовольствие последовала незамедлительно.
От хлорированной в слоновьих дозах воды – кто ж об этом предупредил?! – волосы стали отваливаться прядями при любом прикосновении к ним. Унял девичий переполох лысеющий акробат:
-Берите, девки, пока я добрый, – жертвую всю свою заначку «Кармазина» на спасение красы будущих звезд советского цирка!
… Самое неприятное, что и уехать-то мы не могли: город закрыли. Причем, багаж успели отправить накануне, а мы должны были ехать утром, но ночью было принято решение о закрытии города. Кстати, добрая половина приехавшей программы тоже оказалась без багажа. Выкручивались, кто как мог (к примеру, Боря Евграфов, чтобы кормить многодетное семейство, в два дня соорудил себе жонглерские кольца из фанеры)…
Таких горемык, как мы, оказалось немало. В Астрахани срочно открывались биржи труда для застрявших отдыхающих, т.к. многие люди успели потратить все отпускные деньги. Кому-то просто выплачивали пособие, тем, кто помоложе, подыскивали какую-нибудь работу.
Наконец, пришло известие, что нас отправляют на обсервацию. Все иногородние, прежде чем выехать, должны были пройти строгий карантин. Под обсервацию приспосабливались хоть мало-мальски подходящие учреждения, мы, например, отсидели положенный срок в школе. В классах установили раскладушки, а в коридорах, где появляться без особой надобности запрещалось, сделала наблюдательные посты напротив известного заведения, куда, по слухам, сам царь пешком ходил. Наблюдающий зорко следил, не слишком ли часто ты наведываешься в данное заведение, и если у него возникали сомнения, тебя брали на повторный анализ.
Ели каждый в своей импровизированной палате: дежурные приносили надписанные ведра с первым блюдом и кашей. Кормили на убой, наши дамы катастрофически толстели.
Карантин был нешуточный. Вокруг школы на постах стояли солдаты с автоматами, наблюдавшие, чтобы у «обсервантов» не было никаких контактов с внешним миром.
Принесли зарплату. Кассир отсчитывал деньги на наших глазах, а затем бросал их в тазик с хлоркой, откуда мы их вылавливали и сушили затем, приклеив к оконным стеклам.
Из развлечений на весь коллектив оказался с собой один портативный телевизор и две колоды игральных карт. Мужчины, как истинные джентльмены, уступили женской палате одну колоду, а телевизор, разумеется, забрали себе.
Тем не менее, в женской палате не скучали. Взрывы смеха, доносившиеся от нас, лишили мужчин покоя.
- Отчего это наши девочки так веселятся? – недоумевали они, обалдев от просмотра сельских новостей и прочих, столь же увлекательных программ.
Но мы свято хранили тайну. Очень быстро нам удалось подружиться с караулом. Связав несколько поясов в одну длинную веревку, мы прикрепив на конце веревки мешочек с деньгами, опускали ее в форточку. Солдатик бежал в ближайший магазин и отправлял нам с обратной почтой бутылку водки и пакетик с кильками.
Наши почтенные матроны, приняв сто грамм, начинали играть в карты на «исполнение желаний». Естественно, когда проигравшая дама весом под 80 килограммов пыталась встать в «стойку», а остальные дамы ей помогали, – веселье переходило границы приличий. Видимо, школьные стены вернули нашим мамам детский задор и бесшабашность.
Слава богу, ни у кого холерной палочки не обнаружили, и настал день освобождения. Каждая палата, ни с кем посторонним не общаясь, выходила на посадку в автобус, подогнанный прямо к двери школы. Затем автобусы, сопровождаемые военизированным конвоем, подъезжали точно к двери вагона поезда. Народ набивали в вагон так, что даже сидеть было тесно. На дорогу выдали сухой паек: банку рыбных консервов, банку сгущенки и печенье в пачках.
Ехали все в одном направлении – в Свердловск, и лишь в Свердловске пересаживались на нужные поезда. Мы из Свердловска отправились в Челябинск, куда переправлен был цирковой багаж, а наши медицинские документы благополучно прибыли по месту нашей постоянной прописки.
Бедные соседи долго и безуспешно доказывали потом местным медикам, совершавшим регулярные набеги на закрытую квартиру, что холерные артисты не приезжали и когда еще приедут – холера их знает!
ЛЕСТНИЦА В НИКОГДА
Ветхий деревянный цирк постройки 1928 года в Костроме местные власти закрыли как аварийный. Однако московское начальство сумело отменить это разумное решение, настояв на гастролях нашей пантомимы.
В общем, к неудовольствию дирекции цирка и себе на горе приехали мы в Кострому.
Отработав в воскресенье третье, вечернее представление, артисты поспешили домой, т.е. в цирковую гостиницу, ужинать. В понедельник – желанный выходной.
Мы с мамой еще накрывали на стол, когда в коридоре раздался истошный вопль: «Пожар!»
- Ну и шуточки у ваших ребят, – укорила меня мама.
Но через минуту мы, полуодетые, как и остальные обитатели цирковой гостиницы, бежали по заснеженной Костроме.
Ночь была морозной и на редкость ветреной.
Вот он, цирк. Горела закулисная часть. Пожарных еще не было, но кто-то уже командовал тушением пожара. В цирк пускали не многих. Первым огонь, робко лизавший стену второго этажа между гримировочной балета и костюмерной, заметил дирижер, задержавшийся в оркестре дольше своих музыкантов. Он попытался залить огонь из огнетушителя. Огнетушитель сделал легкий «пшик» – и умолк.
Прибежал полетчик Федор Фесенко, принес еще огнетушитель. «Пшик-пшик-пшик»…
Уже несколько бесполезных красных баллонов валялись на полу, а огонь между тем набирал силу. Система, предназначенная залить весь цирк водой на полметра, сработала не успешней огнетушителей. Фесенко побежал вызывать пожарных, а дирижер попытался открыть клетки медвежат, которых дрессировала для будущего номера Ирина Адаскина. Медвежата были маленькие и славные; дирижер, добрый человек, очень хотел их спасти, но не знал секрета запора медвежьих клеток.
Медвежата погибли.
Когда мы прибежали к цирку, горело уже и внизу. Наша гримировочная, располагавшаяся в глубине цирка, под лестницей, оказалась недоступной. Как и клетка с голубями.
- Там наши голуби! – рванулась я к цирку.
Но меня сильно оттолкнули.
- Куда ты, дурочка, туда уже не пройдешь – самое пекло! Там уж и спасать некого…
Я заплакала.
Ребята из номера Вольного протащили мимо свои подкидные доски. Личное барахло никто не сберегал – спасали только реквизит и животных – своих и чужих.
Ветер злобно помогал огню.
Пересохшее дерево, покрытое бесчисленными слоями масляной краски, загоралось легко, и огонь быстро разбегался по кулисам цирка.
Внизу располагался еще один медвежатник – с клетками больших бурых медведей Ивана Анисимова.
Анисимов, сам ростом и грацией похожий на медведя, орудовал в медвежатнике.
Огонь все ближе подбирался к клеткам, и на спасение животных оставались считанные минуты.
Огромный медведь, какой-то час назад боксировавший на манеже на потеху зрителям, а сейчас отрезанный огнем от остальных собратьев, обреченно и жутко ревел, чуя свою страшную гибель.
Звериный крик сливался с треском пожираемого огнем цирка.
Анисимов выскочил на площадку перед цирком, ведя за загривок первого медведя. К Ивану подбежал акробат, обычно ассистировавший дрессировщику за кулисами во время представления.
- Давай, Ваня!
Дрессировщик и акробат поняли друг друга с полуслова.
Акробат протянул руку к медведю и оглянулся вокруг, ища что-нибудь подходящее для поводка, но не нашел.
Медлить было нельзя.
- Бери его за холку! – крикнул Иван акробату. – А ты иди, иди! – приказал Анисимов медведю. – На место, понял, на место!
По узкой ночной улочке торопливо шли двое: медведь и человек, крепко держащий огромного зверя за шкирку. Медведь несомненно знал, что это – его спасение, и покорно семенил мохнатыми лапами рядом с акробатом в домашних тапочках. Так они добрались до гостиницы, где медведя привязали под лестницей. А тем временем Анисимовы (он сам, его жена и рабочий Толя) снова скрылись в дыму пожара. Они стали триедины, и не нуждались в словах: каждый совершал свою часть работы, словно все было отрепетировано заранее.
Рабочий вывел очередного медведя и упал в снег лицом. Набившаяся в гортань и легкие гарь не давала глотнуть свежего воздуха. Наконец Толю вырвало чернотой. Шатаясь, он обтер лицо снегом и, сорвав с себя ватник, набросил его на голову. Ватник тлел в нескольких местах. Мысленно матерясь (приходилось материться лишь мысленно, чтобы не наглотаться лишней гари), Толя шагнул за опасную черту за следующим медведем.
Одного за другим всех анисимовских медведей артисты программы отвели в гостиницу. Шествие медведей (животных злобных и коварных) по улице без намордников воспринималось естественно и без страха. Под гостиничной лестницей медведи, привязанные тоненькой бельевой веревкой, перервать которую им не представляло ни малейшего труда, вели себя тихо и смирно. Казалось, что и привязывали-то их для пущего медвежьего успокоения: на поводке – значит, не брошены на произвол судьбы, значит, они – при хозяине.
Отец и сын Ивановы выносили собак. Оставалась еще последняя клетка, но дым стал стелиться уже по земле.
–Папа, туда нельзя! Не ходи, папа! – услышала я срывающийся от отчаяния голос Андрюши.
Ничего не отвечая сыну, дядя Костя вошел в цирк. За ним следом побежал Андрюша. Они тут же исчезли в черном дыму. Приехавшим вскоре пожарным показали, в каком направлении ушли Ивановы, но пожарные, лишенные каких-либо специальных средств защиты, наотрез отказались искать артистов в огне и дыме.
-Мы не самоубийцы, мы всего лишь люди, – сказали они.
Вообще толку от приезда пожарных было мало, т.к. сильный мороз сковал трубы, и вода не поступала в насосы.
Кто-то решил вытащить сейф с деньгами и документами из административной части цирка. Взломали фасадную дверь – и получился колоссальный сквозняк. Мигом цирк превратился в громадный костер. Купол оторвался и завис над пылающим цирком. Сверкающие искры взметнулись в черное небо.
- Как красиво! – выдохнула артистка, стоявшая со мной рядом. Возле цирка делать было уже нечего, вернулись в гостиницу, из окон которой был виден агонизирующий цирк.
Когда особенно крупный кусок, подхваченный ветром, взлетел ввысь сверкающей кометой, кто-то крикнул:
- Смотрите, вон летит мой ящик!
- А вон еще – это, наверное, мой кофр!
-Нет, это мой, я его узнаю по царапине на боку!
…Все еще пытались разыскать Ивановых. Один артист вспомнил, что во двор въезжала машина с красным крестом. Такие бывают при заводских больницах. Всю ночь обзванивали больницы и медицинские пункты. Очевидная правда была слишком жуткой, и ей не могли поверить.
Но утром Ивановых нашли на пепелище. Андрюша наступил на оголенный провод и умер мгновенно, а дядю Костю придавило металлической конструкцией, из-под которой он выбраться не смог.
Потрясенные артисты, даже трезвенники, беспробудно пили ночи напролет. Днем отсыпались, а ночью снова никто не решался лечь спать, и трехлетний мальчик бродил неприкаянно по гостинице, прячась от своей матери, которая, тронувшись умом от пережитого ужаса и пьянки, не помнила, накормила ли она сына и, на всякий случай, все запихивала и запихивала в него кашу…
Суеверный страх обуял участников программы: слишком много роковых совпадений выпало нам на долю в Костроме.
Еще на подъезде к городу поезд, на котором мы ехали, без видимой причины остановился и простоял в степи два часа, а невесть откуда взявшаяся сумасшедшая старуха скакала в отдалении от вагонов, размахивая руками и что-то выкрикивая.
Для нас зачем-то открыли закрытый аварийный цирк.
В ночь пожара наш цирк горел третьим: первой заполыхала школа, затем – фанерная фабрика, потом – цирк. Такого обилия пожаров не помнила Кострома, поэтому пожарная машина, может, тоже какая-нибудь списанная, приехала без запаса воды.
И наконец – главное: Андрюша Иванов должен был ехать в другой город, но мать упросила начальство прислать его к нам.
…Прошло двадцать лет. Но и теперь мне порою снится дымящееся пепелище, из которого сиротливо торчит лишь огрызок каменной лестницы, ведущей на второй этаж, которого уже не существует. Лестница, по-ахматовски ведущая «в никуда и в никогда».
До сих пор при слове «Кострома» у меня болезненно сжимается сердце.
Об этих трагических событиях в цирковой энциклопедии скупо сказано: «В 1970 К.ц. сгорел. Представления даются в шапито».
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРОХОДНАЯ
После пожара мы остались практически нищими. Из вещей – то, что на себе, и по весне я пугала прохожих шубой, пока мне, наконец, не купили в «Детском мире» дешевенькое пальтецо.
Сгорела папина цирковая библиотека, а главное – все книги по фокусам, в том числе и редкие немецкие, и мамины переводы к ним.
Погибли наши голуби.
От всего реквизита удалось отыскать на пепелище лишь одну трубку из особо термостойкого металла. Но нужно было жить, а это значит – работать, и однажды утром папа отправился на завод. Костромичи близко к сердцу приняли трагедию, постигшую цирковых людей, и старались помочь, чем могли. Директор завода сразу согласился сделать иллюзионный реквизит.
- Вот приходи завтра к восьми, и я отведу тебя к нашим мастерам, – сказал он.
- Но отчего же не сегодня? – удивился папа.
- Так уже двенадцать, – объяснил директор, но папа логики его ответа не понял, ведь до конца смены было еще далеко.
- Ну, пойдем, там поймешь, – вздохнул директор.
В цехе отсутствовала добрая половина рабочих, а те, что присутствовали, были по большей части не совсем, мягко выражаясь, дееспособны.
- Как же вы план выполняете? – ахнул папа.
- План-то мы выполняем… – хмуро ответил директор. – Да ты сам посуди, что я могу поделать? Ну, вытурю я этого алкаша, а там, напротив, у проходной стоит директор другого завода и ждет-не дождется, чтобы моего «трудягу» подобрать, потому что у него и таких нехватка. А, что там говорить, в общем, приходи завтра к восьми, я тебе хороших ребят дам.
Теперь папа все дни пропадал на заводе. Усвоив урок, преподанный ему директором, отец не отходил от «своих» рабочих ни на шаг. Ребята действительно оказались настоящими мастерами, дело спорилось, и через месяц заказ был выполнен.
- Ты бы, Миша, хоть показал нам, что из всего этого получилось, – попросили рабочие. – У нас во вторник будет концерт, уж ты выступи, а?
- Тогда мне сегодня нужно все забрать, – согласился папа, прикидывая в уме, что с пятницы до вторника сумеет начинить изготовленный на заводе реквизит секретными механизмами, которые он сам мастерил дома по вечерам.
Кинулись выписывать пропуск, но пятница – короткий день, и управленцев никого уже не найти.
Папа расстроился, а рабочие его успокоили:
- Не боись, мы тебе через комсомольскую проходную доставим! Ступай и жди возле квасной будки.
Квасная будка стояла недалеко от забора, опоясывающего завод.
- Миша, держи!
Через забор перелетела первая изогнутая, блестящая хромом, трубка – будущая основа иллюзионного стола-треножника.
- Так вот она, «комсомольская проходная», – запоздало сообразил отец.
В это время из настоящей проходной повалил рабочий народ: смена кончилась.
- Ах ты, господи, ну сейчас начнут выяснять, кто, откуда да почему – позора не оберешься! – мысленно ужасался папа, принимая очередную сверкающую металлическую загогулину на виду у проходящих мимо рабочих.
…Одни шли, не повернув головы в сторону «комсомольской проходной», другие беззлобно подшучивали.
Не подошел ни один.
Во вторник на концерте папа имел бешеный успех. Громче все хлопали, конечно, свои мастера.
Людмила Дикуль
