Не для вас, а с вами
Произведение поэта может пережить язык, на котором оно написано. Произведение архитектора или скульптора живет столько, сколько стоит камень. Пока не распадаются краски, живет живопись.
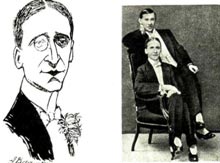 На рисунке и снимках: конферансье театра «Гротеск» А. АЛЕКСЕЕВ (1918 год), автор книги с В. Я. ХЕНКИНЫМ (снимок рядом справа) с В. Н. ДАВЫДОВЫМ и И. С. КОЗЛОВСКИМ (снимки на следующей стр.)
На рисунке и снимках: конферансье театра «Гротеск» А. АЛЕКСЕЕВ (1918 год), автор книги с В. Я. ХЕНКИНЫМ (снимок рядом справа) с В. Н. ДАВЫДОВЫМ и И. С. КОЗЛОВСКИМ (снимки на следующей стр.)
Эфемерна кинопленка; когда свернется эмульсия на последних копиях, величие Эйзенштейна будет недоказуемо. Но и здесь искусство все-таки передает себя будущему. Актер беззащитен. Его произведение начинает умирать в тот момент, когда он уходит со сцены. Что можно зафиксировать? Впечатления видевших? Но и они час спустя помнят лишь то, что восприняли. Снять с полки, перечесть, вернуться — нельзя. Что ж сказать об артисте эстрады? В частности, об импровизаторе, все искусство которого построено на мгновенной находчивости? Эфемернейшее из эфемерных, оно невосстановимо в принципе. «Только и остались стариковские воспоминания», — горько пишет Алексей Григорьевич Алексеев *.
* А. Г. Алексеев, Серьезное и смешное. Полвека в театре и на эстраде, М., «Искусство» , 1967.
Он был вторым в России, кто сделал из конферанса артистическую профессию. Первым был Балиев, который начал чуть раньше, потому что был чуть старше. Алексеев знал его по рассказам, но ни разу не видел (из принципа, чтобы не «повлияло»), так что пионерами были оба — Балиев в Москве, Алексеев — на юге, потом в Питере. К тому времени конферанс как вид сценического искусства уже полсотни лет существовал во Франции. В России начала XX века он был новинкой, и нужно было иметь особый характер, чтобы внедрять его. Много лет спустя, когда имя Алексеева вошло в энциклопедию, о нем написали, что популярность его выросла на базе остроумной импровизации. Стоит жизнь прожить ради такой сухой справки, но как вернуть, как извлечь из многослойных преданий эту мгновенно гаснущую звезду, как ощутить то, что живет только мгновенной ситуацией случая?
Книга А. Г. Алексеева «Серьезное и смешное» — не просто книга о жизни крупного артиста, написанная им самим. Это, быть может, наиболее полное и достоверное свидетельство того искусства, отцом и основателем которого он был у нас. Если хотите, это и учебник конферанса. Алексеев понимает: импровизации научить нельзя. Остроумие при пересказе становится плоским. Разумеется, хлесткие ответы, записанные по памяти, сохраняют кое-что и в тексте книги, но это лишь отблеск. И в отдельности тут ничего не схватишь... но вся книга в целом, в совокупности штрихов и черточек передает ощущение и блеска, и тонкости, и живого артистизма, и еще того главного, сверхпрофессионального качества, которое ценней всего и которое зовется достоинством артиста, больше: достоинством человека.
Не скрою, что к эстраде я отношусь в лучшем случае потребительски; не будучи специалистом, я и не берусь судить о профессиональных аспектах книги, но как один из тех читателей вообще, которым адресован пятидесятитысячный ее тираж, сквозь подробности жизни артиста я читаю судьбу личности. А личность — всё в конферансе. Это не парадокс, что представитель легкого, развлекательного жанра куда более прямо зависит от самоощущения личности, чем, скажем, представитель тяжеловесно-серьезной драмы. Станиславский говорил Алексееву (Алексею Григорьевичу, а не Константину Сергеевичу, простите мне этот невольный каламбур), что он, Станиславский, умер бы от страха, если бы его заставили выйти к публике без выученного заранее текста. А конферансье выходит. Что держит его внутренне под перекрестным огнем реплик из зала? Что подсказывает у:ментальные ответы? Что ведет? Только одно: живое самоощущение личности.
Но позвольте мне отвлечься для того, чтобы выполнить обязанность рецензента и дать хотя бы беглый обзор того материала, который читатель найдет в книге старейшего актера. Юрист по образованию, он не без удовольствия сообщает нам, что от нескольких лет университетской жизни у него едва ли осталось в памяти что-либо, хроме двух-трех анекдотов. Зато все пятьдесят лет жизни театральной без пробелов живут в памяти. Читатель имеет возможность убедиться в верности последнего утверждения. Это и впрямь живая история русской эстрады нашего столетия. Здесь есть острые и очень личные характеристики искусства Ярона и Хенкина, Гаркави и Утесова, Райкина и Менделевича. Здесь есть мгновенные зарисовки людей, с которыми судьба сталкивала автора; среди них Луначарский и Маяковский, Давыдов и Качалов, Козловский и... летчик Уточкин. Здесь рассыпаны неповторимые детали! характерные для переменчивых 10-х и бурных 20-х годов. Знали ли вы, к примеру, что на. похоронах Иоанна Кронштадтского в 1908 году набуянил какой-то пьяница офицерик и что именно он всплыл потом в качестве «гетмана всея Украины» Павла Скоропадского? Историю пишут обычно всеобще-безличными штрихами, а то и по линейке; между тем такая вот подробность, увиденная врасплох, может многое оживить. В данном случае меня мало интересует биография «гетмана». Меня интересует артист Алексей Алексеев. Острота его взгляда. Его наблюдательность и его стиль. Его индивидуальность — то, что позволило ему стать у нас пионером столь своеобразного вида актерской деятельности.
Алексеев быстр, находчив, даже азартен в полемике. Но он никогда не становится беспощадным. Он беспощадно видит, но он и щадит того, кого видит насквозь. Ему случалось, разговаривая с публикой, отвечать на всякое... и отвечать незамедлительно. Но он не мог бы, подобно французскому певцу Мильтону, издевательски довести до обморока девочку, которая не вовремя пошла к выходу. Алексеев, являвшийся перед публикой в облике утонченного и холодноватого интеллигента (Балиев, с его московской широтой и простотой, казался доступнее), — именно «неприступный» Алексеев был, в сущности, добрейшим из артистов. «Мы умели не бить, а царапать, не издеваться, а посмеиваться, не ненавидеть, а брезгливо отходить в сторону», — пишет он, и не без смущения: в ту пору, когда разворачивались события, входил в обращение совсем другой стиль, и надобно было именно бить, издеваться и ненавидеть, и никто иной, как Маяковский, наставлял «Алексеича» на этот счет. Возможно, что в 20-е годы большего и впрямь добивался тот, кто действовал наотмашь. Но — каждому свое. Мне кажется, Алексеев был прав, когда оставался самим собой. Я думаю, что он не сделал бы для нашего искусства то, что сделал, если бы его характер был другим.
Это связано с самим искусством, которое он утверждал в России. Работал он и в опере, и в оперетте, и играл, и режиссировал, но «самая близкая и самая мучительная, любимая и ненавидимая» профессия его — конферанс. «Что же это такое — конферанс, и кто такой конферансье? — пишет он. — Человек ли это, беспрерывно острящий?.. Нет. Что может быть навязчивей, надоедливей собеседника, который все время пытается острить? Оскар Уайльд говорит: «Мне до смерти надоело остроумие. В наши дни решительно все остроумны... Как я хотел бы, чтобы у нас осталось хоть несколько дураков», — цитирует Алексеев и уточняет:
— Избегают не остроумных, бегут от тех, кто вечно острит».
«Но если конферансье не беспрерывный остряк, какова же его функция в концертной программе? Объявлять номера? Тогда он «ведущий». Конферансье — это хозяин вечера... И зрители, и актеры, и те, и другие — мои гости. Я, конферансье, должен познакомить вас... Не объявить, а «подать-номер, связать артиста с его публикой». «Ибо если место дирижера среди музыкантов, то место конферансье — среди публики... Чем меньше публику мы мучим, тем легче нравимся мы ей... Мы вели не концерт, мы вели зрителя по концерту, как гид ведет экскурсантов по выставке... Конферансье — не номер в концерте, а фон этого концерта, и, как ни странно, он не должен иметь личного успеха... Мои аплодисменты мешают другим участникам».
Я хочу выделить в системе этих высказываний не профессиональную, а нравственную последовательность. Конферансье — это одновременно и величайший взлет личного достоинства и величайшее сознательное самопожертвование. Он умирает в публике, как режиссер — в актере. Он по природе должен воплощать в себе благородство и доброжелательность, достоинство и великодушие. У него спрашивают актеры за кулисами: какова сегодня публика? А публика молчаливо терзает его весь вечер: каковы сегодня актеры? А он — человек между берегами. Немножко актер, немножко зритель, немножко политик (в фельетонах), немножко клоун (в анекдотах)... Конферансье легко теряет себя во всеуменье, если не знает твердо своего предмета, а предмет этот — контакт между людьми. Это и есть тема, суть и пафос его «исчезающего искусства» — контакт.
«Не для вас говорят, с вами разговаривают» — вот секрет дела. Каким должен быть человек, отваживающийся выйти к публике без готового текста, чтобы лепить свое произведение из нее и из себя, на глазах? Быть профессиональным актером? Куплетистом? Танцором? Да, да, да. Еще? Быть интеллигентом, внутренне готовым отбить остроумную реплику или игнорировать грубую? Да, это еще ближе к сути. Быть личностью, ощущать свое внутреннее достоинство, свое право на контакт с залом — вот главное.
Артист всяко может оберечь свое лицо. Ему ведь могут дать понять, что он обслуживает, что он нечто вроде лакея (тот подает еду, этот подает развлечения). Когда Виктор Хенкин пел песню «Бить в барабан велит король» в ресторане, в годы нэпа, и торопящийся угодить кому-то официант поставил на край сцены поднос с бутылками, — артист, не прерывая песни, «чисто королевским движением ноги» столкнул все это со сцены на пол. Это поступок личности, попавшей в атмосферу пошлую. Бывает и другая атмосфера... и хотя жанр, о котором мы говорим сейчас, — самый, что ни есть, легкий, — бывают и у него весомые минуты.
Это верно, что эстрада адресуется к легким элементам человеческой души, что, как пауза в повседневном существовании, эстрада и сама несет неистребимую печать повседневности, моментальности, элементарности. Но кто знает, когда на эту легчайшую из муз падет перст судьбы, и она должна будет стоять под тяжестью испытания? Я не знаю, серьезный ли жанр оперетта, возможно, что «Ночь в июне», поставленная Алексеевым летом сорок первого года в «Эрмитаже», — не классика. Но во время представления начинала выть си-река, следовало прервать оперетту и всем идти в убежище, а публика кричала: «Не надо уходить! Продолжайте!» Я вспоминаю описанные у Ирвинга Шоу шекспировские спектакли, которые шли в Лондоне под гитлеровскими бомбами, — артист ггерекрывал монологом грохот разрывов, и публика не двигалась с места... Наверное, в истории искусств «Король Лир» и «Ночь в июне» займут места на очень далеких друг от друга полках, но в истории человеческого духа два эти эпизода р-о-ственны. В каждом, даже самом наилегчайшем, из видов искусства созидается и хранится человеческое достоинство, и стоит ударить вихрю — прочность его обнаруживается.
«Не для вас, а с вами», понимаете? Эта нравственная струна — самая ценная в книге А. Г. Алексеева.
Л. АННИНСКИЙ
Журнал Советский цирк. Февраль 1968 г.
оставить комментарий
