А. М. Горький и цирк
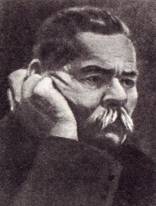 Публикуемая статья является частью большого исследования А. Г. Лебедевой о связях А. М. Горького с цирком.
Публикуемая статья является частью большого исследования А. Г. Лебедевой о связях А. М. Горького с цирком.
А. М. Горький интересовался цирком в течение всей своей жизни. Об этом свидетельствуют высказывания самого Горького, его художественное творчество, многочисленные показания современников.
Знакомство Горького с цирком началось с 8—9-летнего возраста. В ряде автобиографических произведений писатель рассказал о своем увлечении цирком в детстве и юности. Горький передает очарование, которое вынес от выступления циркового клоуна Мишка, мальчик из иконописной мастерской (рассказ «Встряска», 1898 г.). Писатель показывает, как Мишка, бледный от напряжения, молчал и порой вздрагивал от желания самому кувыркаться на арене в блестящем костюме. Ничто не может разрушить этого впечатления. Когда мальчик ложится спать в углу двора на соломе, сверкающие в небе звезды напоминают ему золотые блестки на атласном костюме клоуна. На следующий день он с утра рассказывает в мастерской о цирковом представлении, изображая клоуна, — и это спасает его от щелчков и пинков. А вечером, после оскорбительной «встряски», когда Мишка лежит в постели, блестящие краски икон вызывают воспоминание о вчерашнем вечере.
«И вот он видит арену цирка и себя на ней... Гром рукоплесканий поощрял его... полный восхищения пред своей ловкостью, веселый и гордый, он прыгнул высоко в воздух и, сопровождаемый гулом одобрения, полетел куда-то, полетел со сладким замиранием сердца... чтоб завтра снова проснуться на земле от пинка»1.
Чем привлекал Горького в детстве цирк? Впечатления от цирка, «красивые и приятные, как сон» отличались от тех впечатлений, которые, по словам Горького, «обижали его в детстве жестокостью и грязью». Цирк был одним из тех источников, которые будили творческие способности будущего писателя.
Об этом неудержимом порыве творчества А. М. Горький рассказал позднее в произведении «В людях», вспоминая о днях своей жизни в иконописной мастерской: «До самозабвения возбужденный, я начинал рассказывать и разыгрывать внезапно создавшиеся фантазии, — уж очень хотелось мне вызвать истинную, свободную и легкую радость в людях»...
«...Ты, Максимыч, направляй себя в цирк али в театр, из тебя должен выйти хо-оро-ший паяц!» — говорил с одобрением Горькому мастер Жихарев2.
В юности А. М. Горький хотел стать цирковым артистом, но его попытка кончилась неудачей. Этот эпизод своей жизни писатель отразил в рассказе «В театре и цирке»3.
Цирк привлекал юношу Горького многими сторонами: «Все, что я видел на арене, слилось в некое торжество, где ловкость и сила уверенно праздновали свою победу над опасностями для жизни».
Мир циркового искусства раскрывался перед Горьким и из книг, которые он читал в то время.
Необычным было впечатление подростка Горького от романа французских писателей Э. и Ж. Гонкура «Братья Земганно». А. М. Горький не раз говорил об этом: «...у меня руки дрожали от наслаждения читать эту книгу.
____________________________________________________________________________
1 А. М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 3, стр. 378.
2 Там же, т. 13, стр. 423—424.
3 Там же, т. 14, стр. 140.
4 Там же.
Я плакал навзрыд, читая как несчастный артист со сломанными ногами ползет на чердак, где брат тайно занимается любимым искусством»5.
Другой книгой, хорошо запомнившейся писателю, были мемуары Упилио Файмали, итальянского укротителя львов (1826—1894). Файмали был человеком большой силы и мужества. Одиннадцати лет крестьянский мальчик самостоятельно пришел в цирк и вскоре сделался искусным, бесстрашным наездником. Впоследствии он занялся дрессировкой животных и, наконец, сделался укротителем львов, что было венцом его стремлений. У Файмали было 120 зверей, из них 32 льва, что считалось большой редкостью. Файмали побывал в больших городах Англии, Австрии, Германии, Франции, Испании, Бельгии, Голландии, был в России, в Петербурге.
В мемуарах Файмали Горького, несомненно, привлекал человек необычной профессии укротителя, его бесстрашие в опасной работе, власть человека над «царями природы».
Из книг, которые жадно глотал в то время Горький, он видел: «Есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как никто не умеет жить вокруг него»6.
Когда А. М. Горький в действительности познакомился с цирковой средой, она привлекла его и другими чертами, прежде всего товариществом, чувством локтя. Поэтому ему и запомнились слова циркового акробата: «...Мы, цирковые, живем, слава богу, дружно, хорошо! У нас такая работа опасная, что нужно беречь друг друга...»7.
Вспоминая свое отношение к цирку в детстве и юности, Горький отмечал, что цирковые артисты не походили на обыкновенных людей внешним обликом и поведением.
Еще в рассказе «Встряска» Горький писал о том, как Мишке не понравилось, что после представления блестящий, ловкий клоун был одет в самый обыденный костюм; мальчик был решительно недоволен неприятным превращением артиста в обыкновенного человека.
В рассказе «Герой» (1915) Горький писал: «Когда жизнь неприглядна и грязна, как старое засоренное пожарище, приходится чистить и украшать ее на средства своей души, своей волей, силами своего воображения, украшать светлыми покровами юношеского романтизма»8.
Так писатель сам подчеркнул свое романтическое отношение к явлениям жизни, которое характеризовало и отношение к цирку и людям цирка в годы детства и юности.
С первых же лет своей литературной деятельности Алексей Максимович, работая в «Самарской газете», «Нижегородском листке», «Одесских новостях», большое внимание уделял вопросу о народных зрелищах и, в частности, много писал о цирках, балаганах, кулачных боях.
Говоря о цирке как о высоком и нужном искусстве, А. М. Горький резко выступал против всего грубого, неэстетичного, против тяжелых и опасных для жизни номеров, которые потрафляли вкусам пресыщенной буржуазной публики.
Горький протестует против «грубейшей чепухи» в цирке, когда на головах людей разбивают молотом камни, когда глотают зонтики и шпаги, горящую паклю, кушают резиновые калоши, гуляют босыми ногами по остриям гвоздей и т. д.9.
В другой статье А. М. Горький возмущенно пишет о том, что героями дня являются борцы-атлеты и клоуны — Абс, Моор, Фосс и др.
«Все эти «всемирно известные», «непобедимые» и непроходимо глупые борцы — тоже лилипуты, у всех них маленькие головы на массивных корпусах, глаза у них тупые, физиономии деревянные. Долг прессы внушить публике, что все эти великаны и лилипуты, клоуны и маги, уроды о трех ногах... — все они не есть феномены и результаты свободного творчества, а суть искусственно приготовленные и изуродованные для публики — жертвы ее».
Отрицательное отношение к тем развлечениям, которые будили низменные инстинкты зрителя, сохранилось у Горького на всю жизнь. Об этом свидетельствует хотя бы очерк «Царство скуки» из цикла «В Америке» (1906), в котором писатель с чувством гнева и возмущения описал народные развлечения в Кони-Айленд, в том числе и цирк: «состязание» укротителя со зверьми, сцену с обезьяной и прочее.
Учитывая популярность циркового искусства, Горький еще в статьях 90-х годов ставил вопрос о необходимости превратить цирк в «разумное», «поучающее» зрелище. В это же время его занимала мысль о создании народного театра. Общеизвестен факт организации Горьким в 1897 году в местечке Мануиловке деревенского театра с труппой из местных крестьян. Сам писатель участвовал в постановках в качестве актера и режиссера. В 1903 году в Нижнем Новгороде, при активном содействии и руководстве Горького, был открыт общедоступный театр.
Горький горячо пропагандировал идею создания народного театра среди театральных деятелей, что засвидетельствовал организатор театрального товарищества в Нижнем Новгороде артист Н. И. Собольщиков-Самарин. После беседы с Горьким он, претерпев много затруднений, организовал серию народных спектаклей в Астрахани10.
Взгляды Горького на народный театр, его замечания о значении массовых культурно-просветительных мероприятий были тесно связаны с теми взглядами, которые проводила Коммунистическая партия по вопросам культурного воспитания масс еще в дооктябрьский период.
Легальные партийные газеты «Звезда» (1910—1912) и «Правда» (1912—1914) на своих страницах постоянно печатали статьи на темы литературы и искусства и ставили вопрос о воспитательном значении народных развлечений 11.
Старый мастер дрессировки И. Л. Филатов (умер в 1956 г.) рассказывал, что в годы 1903—1904 Горький часто бывал в Москве в его балагане (у Филатова в течение 12 лет работал большой приятель Горького известный волжский куплетист А. И. Орлов).
«Цирк Горький очень любил, — рассказывал И. Л. Филатов. — Беседуя со мной и Орловым, Горький говорил: «Я до безумия люблю это народное зрелище»12.
В балагане Филатова, как он сообщал, шла пьеса «На дне». Шла она вместо обычных пантомим. Горький сокращал ее, оставляя самое важное, и переделывал вместе с Орловым. Сам Иван Лазаревич Филатов играл Барона.
Филатов рассказывал об отдельных моментах постановки. Приход Луки со святой водичкой вызывал в публике большой смех. В пьесу было введено исполнение капеллой Филатова, состоявшей из 18 человек, песни «Солнце всходит и заходит». Были пляски. Все это кончалось при словах: «Полиция идет», — все прятались.
Пьеса имела колоссальный успех. Первые ряды сразу расхватывались «чистой публикой». «Горький любил эти представления», — вспоминает Филатов. Приходил он на пьесу не один, а вместе с мужчиной, которого Филатов не знал.
«На дне» ставилось в балаганах Филатова и в Орехово-Зуеве, Алатыре, Симбирской губ., в Саратове на пасхальных гуляньях и особенно большой успех имело в Пензе. Горький приезжал к Орлову и в Орехово-Зуево, и в Алатырь, и в Пензу и жил у него по нескольку дней.
На дошедшем до нас фотоснимке А. И. Орлов, также игравший в пьесе Барона, несколько напоминает по своему внешнему облику (гриму) образ, созданный В. И. Качаловым.
Для нас в рассказе Филатова важно отметить желание Горького дать пьесу «На дне» в балаган для обозрения широкой народной массе.
Отличительной особенностью русского цирка была его сатирическая направленность. Отсюда понятна положительная оценка А. М. Горьким замечательного представителя русской цирковой клоунады, клоуна-дрессировщика, политического сатирика Анатолия Леонидовича Дурова.
Горький ценил общественное значение выступлений А. Л. Дурова (о чем имеется свидетельство Е. П. Пешковой). Их личные взаимоотношения были дружественными.
Елена Робертовна Дурова (жена А. Л. Дурова) в письмах к автору данной статьи вспоминает об отношениях между А. М. Горьким и А. Л. Дуровым: «По рассказам Анатолия Леонидовича, первое знакомство его с Горьким и одновременно с Шаляпиным было в Н. Новгороде во время ярмарки, в цирке Никитиных. Здесь они и сфотографировались втроем:
________________________________________________________
5 А. М. Горький, т. 13, стр. 341.
6 А. М. Горький, Как я учился, т. 14, стр. 235.
7 А. М. Горький, В театре и цирке, т. 14, стр. 140.
8 «Беглые заметки». — «Нижегородский листок», 23 июля 1896 г.
9 «Беглые заметки». — «Нижегородский листок», 23 июля 1896 г.
10 Н. И. Собольщиков, Записки (серия «Театральные мемуары», № 5, ВТО), г. Горький, 1940, стр. 182—183.
11 См. сборник «Дооктябрьская «правда» об искусстве и литературе». М., ГИХЛ, 1937. Из новых исследований — статью С. В. Шириной «К вопросу о борьбе «Звезды» и «Правды» за высокоидейный и реалистический театр» в книге «Ежегодник Ин-та истории искусств, 1955 г. Театр», Изд-во Академии наук СССР, 1955, стр. 5—57.
12 Из беседы с автором статьи в 1950 г. в Ленинградском, госцирке.

А. М. Горький — посередине, а Дуров и Шаляпин — А. И. Орлов, исполнявший роль Барона в пьесе «На дне», поставленной в цирковом балагане по бокам. Фотография эта хранилась у меня до войны». Но во время войны, сообщает Е. Р. Дурова, были потеряны и рукописи А. Л. Дурова с его воспоминаниями и фотографии Горького с Дуровым, письма их и все остальное имущество, находившееся в Воронеже.
Горького очень интересовали клоуны-эксцентрики, коверные клоуны. После посещения цирков он охотно и подробно передавал свои впечатления (сообщение художницы В. М. Ходасевич). Интересен отзыв Горького, например, о немецком клоуне Гроке: Горький считал Грока гением циркового искусства, таким же гениальным, как и Шаляпин (сообщено художником Ф. С. Богородским)13.
Горький запомнил, как В. И, Ленин «охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов и эксцентриков» в лондонском мюзик-холле, и как интересно говорил об эксцентризме как особой форме циркового искусства: «Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а интересно!»14.
Существо эксцентрики циркового искусства В. И. Ленин видел в сатирической насмешке над обыденностью, в скептическом отношении к буржуазной действительности.
Стремление Горького использовать средства циркового искусства в сатирическом плане для борьбы с недостатками, мешающими утверждению новой жизни в социалистическом обществе, выразилось в написании им сценария «Работяга Словотеков» (1920) для постановки в театре «Народной комедии» в 1919 году.
В составе театра «Народной комедии» были цирковые и драматические артисты. В спектакли широко вводились элементы цирковой акробатики и клоунады. Цирковым артистам, например Г. И. Дельвари — клоуну и акробату, А. С. Александрову-Сержу — наезднику и воздушному гимнасту, поручались первые роли.
Постановке пьесы «Работяга Словотеков» (16 июня 1920 г.) предшествовали неоднократные встречи А. М. Горького с цирковыми артистами15.
«Работяга Словотеков» — одноактная пьеса, названная по имени центрального персонажа управдома Словотекова — лодыря и бездельника, нахватавшегося архиреволюционных слов.
«Работяга Словотеков» — одно из первых сатирических произведений советской литературы, один из первых откликов на призыв Коммунистической партии вести борьбу с бюрократизмом.
Об отношении А. М. Горького к спектаклю и о характере постановки «Работяга Словотеков» сохранились свидетельства артистки Ф. А. Глинской и артиста Ленгосэстрады Б. Д. Козюкова.
Б. Д. Козюков вспоминает, что когда артисты «Народной комедии» после репетиции зашли к Горькому, пригласившему их, Алексей Максимович в беседе с ними подчеркнул, что главная мысль пьесы: «Не нужно заниматься болтовней, нужно делать».
А. М. Горьким была дана канва, эскиз пьесы, вспоминает Ф. А. Глинская. Текст расширялся самими артистами, при повторном исполнении спектакля были введены персонажи, которых у Горького не было. Основными исполнителями были: Словотеков — Дельвари, обыватель (жилец нижнего этажа) — К. Гибшман, водопроводчик — Н. Елагин, прачка — Ф. Глинская.
В театральной постановке, по словам Б. Д. Козюкова, была изменена заключительная сцена с целью усиления ее сценичности. Когда к Словотекову входила толпа с различными заявлениями: крыша течет, метелок нет, водопровод лопнул, мыла нет, — он забирался на стул и произносил длинную речь, в которой потоком лились иностранные слова. Во время этого словоизвержения люди сначала постепенно засыпали, а потом, просыпаясь, медленно расходились. Но Словотеков, даже оставшись один, продолжал говорить безостановочно.
Сценарий «Работяга Словотеков» убеждает в том, что Горький писал его с расчетом на цирковое исполнение, на игру клоуна. Так, в сценарий введено обращение к публике, вовлечение ее в действие («...публика шумит, смеется. Словотеков смотрит на нее, протирая глаза, ему кажется, что он видит сон, делает публике страшные рожи, — она шумит еще больше. Словотеков швыряет в нее будильником» и т. д.); игра с вещами: будильник прячется в ночной столик, под тюфяк, бросается на кресло, в публику; игра с сапогом продолжается в течение всего действия, как только Словотеков покидает постель; в сапоге угли, лучина, вода. В пьесе много действующих вещей: разъехавшиеся ножки кровати, взлетающий кусок паркета, падающая картина. Цирковыми артистами все это и было использовано. Ф. Глинская вспоминает: «Когда Словотеков встал с кровати, делая кульбит, кусок паркета подскакивал и попадал ему в голову. На голове вскакивала грандиозная шишка (пузырь). Дельвари — Словотеков долго кружился, вызывая смех. Когда входил милиционер, Словотеков взъерошивал волосы, они вставали дыбом (в публике смех). Или вынимал из сапога, показывая публике, угли, лучину (смех). Вообще весь его вид, безобразно неряшливый, вызывал смех».
Попытка А. М. Горького отдать свою пьесу театру, который осуществил бы ее средствами цирка, показательна, так же как и то, что главная роль сразу же предназначалась Горьким цирковому артисту Дельвари.
О постоянном интересе А. М. Горького к цирку рассказывает в воспоминаниях о Горьком и П. Павленко: «Побывав как-то в Московском цирке и оставшись недовольным какой-то «водяной пантомимой», он немедленно стал собирать группу литераторов для написания «обозрения». Его отговаривали — Горький и цирк?! Находили это несерьезным, смешным. Но для него не было больших и малых тем, достойных и недостойных жанров»16.
Горький учитывал многообразное значение циркового искусства. Считая, что лучшими сторонами цирка являются мужество, бесстрашие, ловкость и красота человеческого тела, Горький видел в цирке образцы воспитания физической культуры человека, которая необходима для всестороннего развития личности — человека, живущего в труде, борьбе, в создании высоких культурных ценностей.
____________________________________________________
13 См. также статью Ф. С. Богородского «Полгода в Сорренто». «Октябрь», 1956, №6, стр.161.
14 А. М. Горький, В. И. Ленин, т. 17, стр. 16.
15 См. воспоминания А. С. Александрова-Серж в книге «Советский цирк», под ред. Евг. Кузнецова. Л.—М., «Искусство», 1938, стр. 95—96.
16 П. Павленко, А. М. Горький, «Знамя», 1951, № 6, стр. 147. Перепечатано в книге «Писатель и жизнь», М., «Советский писатель», 1955, стр. 150.
Журнал «Советский цирк» ноябрь 1958 г.
