Вопросы и размышления. Ф. Липскеров
Не очень просто было написать мне эту статью.
Когда так называемый «разговорный жанр» в цирке является твоим личным делом, когда твои репризы и клоунады идут в цирках страны, тогда написать статью даже об экзаменах в цирковом училище очень трудно. Трудно потому, что упреки в отставании, в неумении идти в ногу с требованиями жизни приходится адресовать прежде всего к самому себе.
К сожалению, я не смог быть на экзаменах первого курса клоунады в цирковом училище. Но и те два радостных дня, которые я провел в этом училище — 28 июня на экзамене по мастерству актера на втором курсе, а также на выпускном экзамене отделения клоунады и музыкальной эксцентрики и 30 июня на выпускном спектакле студентов основного отделения и отделения клоунады и музыкальной эксцентрики, — дают возможность подвести некоторые итоги. Досужие домыслы о невозможности воспитания клоунов в стенах учебного заведения разлетелись в пух и прах, когда манеж заполнили веселые, энергичные, по-настоящему смешные молодые люди, которые, имея пока еще не всегда совершенный репертуар, вызывали смех любителей и специалистов циркового искусства, до отказа заполнивших скромное помещение циркового училища на 5-й улице Ямского поля.
Да-да, радостью и гордостью были наполнены наши сердце. Сейчас уже можно говорить о нашей собственной школе клоунады, к которой принадлежит не одно поколение талантливых цирковых комиков. Я пишу о том, что родилось у меня после длительного общения с мастерами смешного и после просмотров 28 и 30 июня.
Наш клоун — это, прежде всего живой человек?
Его лицо не изуродовано нелепым, подчас страшным гримом, под которым теряется всякое подобие человека; костюм его близок к костюму современных ему зрителей, но слегка утрирован. И большей частью он выступает «в своих волосах». Даже огромные ботинки, которые еще существуют у наших клоунов под названием «клоунские, увеличенные», в настоящее время все больше приближаются к бытовым ботинкам, не теряя при этом своей пародийности.
Реалистический образ современного человека все больше и больше вытесняет с нашего манежа клоуна-куклу.
Сразу хочу отклонить упреки в желании принизить, «обытовить» наших клоунов. Это будет неверно и нелепо.
Примером неверного приближения образа циркового клоуна к жизни являются, на мой взгляд, последние работы несомненно талантливого Бориса Вяткина. Он стал чересчур бытово-правдивым и в поведении на манеже, и в одежде своей, и даже в манере произносить текст. Реализм образа подменяется правдоподобием, и образ становится все менее и менее интересным.
Работа над клоунадой в цирковом училище началась, очевидно, не с момента организации отделения клоунады и музыкальной эксцентрики.
Здравое зерно было заложено и в предыдущих выпусках. Отсутствие канонов и традиций в воспитании цирковой смены воодушевляло на поиски нового.
Об Олеге Попове написано очень много. Но часто пишущие проходят мимо главного — того, что десять-двенадцать лет назад клоун, подобный Олегу Попову, был бы просто невозможен, был бы предан остракизму всеми ревнителями цирковых традиций. Клоун Олег Попов умен, и зрители это прекрасно понимают. Все его остроумные деяния и поступки — это действия умного человека, который иногда хитрит, прикидываясь простачком, глуповатым, но то, что он умен, ясно с первого взгляда. Да, он народен. Но он вышел из нашего народа сегодня, сейчас.
Конечно, найденный Олегом Поповым образ не является «прообразом» всех остальных клоунов, которые появятся после него. Существует и другой клоун, появление которого, на наш взгляд, тоже было закономерным. Я лично являюсь его поклонником, и, судя по аплодисментам зрительного зала, не только я. Клоун этот — Юрий Никулин, которого, к сожалению, мало знает и замечает наша пресса. Да, среди наших многочисленных клоунов может быть и такой. Может быть и Юрий Никулин в своем образе.
Карандаш не похож ни на Попова, ни на Никулина. Вернее, они на него не похожи, так как ему должны быть обязаны эти молодые артисты тем, что стали «Поповым» и «Никулиным».
Яркий образ, созданный Карандашом, невозможно спутать ни с каким другим. Наша светлая действительность доставляет большую радость Карандашу. Эта радость, умение не унывать в самые, казалось бы, трудные моменты являются наиболее сильными сторонами творчества Карандаша.
Я не могу сейчас подробно писать о сатирических тенденциях в его творчестве, но они опять-таки рождены радостью бытия, убежденностью в том, что с недостатками можно бороться оружием смеха и в этой борьбе побеждать.
Да простят мне читатели вступление, которое я предпослал своим размышлениям о работе циркового училища. Мне лично они были необходимы, и в дальнейшем читателю станет ясно почему.
Не случайно закончил я это вступление размышлениями о радости жизни, которую несет искусство Карандаша. Эта радость неслась с манежа циркового училища, в клоунадах, репризах, интермедиях. Да, пожалуй, во всех номерах.
С увлечением молодые клоуны исполняли данные им, иногда весьма несовершенные, произведения. Бурный темперамент и подчас подлинный талант отмечают работы почти всех молодых артистов и студентов. И сидевший в зрительном зале Карандаш мог быть доволен. То, чего он искал всю жизнь, нашло отражение в воспитании молодых клоунов. Молодые артисты были современны в самом лучшем смысле этого слова, были живыми, забавными и умными.
Тут я должен, к сожалению, сказать о массовом подражании Олегу Попову в гриме многих клоунов. Уж очень похожи они своими курносыми носами друг на друга и на Олега Попова. Более того, стандартнокурносые носы появились даже у некоторых акробатов. Может быть, это просто дань времени и моде? Следует посоветовать молодым артистам искать свой собственный грим, экспериментировать.
Мы сообщили о том, что нам понравилось. А теперь перейдем к тем, кто нам понравился, кто нас порадовал и почему.
После переходных экзаменов второго курса я встретился с Мариной Капитановой. Она была очень взволнована. К радости за хорошо выступивших своих более молодых товарищей у этой выпускницы училища — единственной клоунессы — примешивалась тревога за собственный номер. По простоте душевной, я думал, что М. Капитанова будет выступать на манеже с «собственным лицом», будет своеобразной «женщиной-белым». Но как приятно поразила она меня, появившись в образе женщины-Буратино. Я говорю о внешнем ее виде. С острым носиком, нелепой модной шляпкой, модно-нелепом костюмчике. Этот смешной образ был оправдан молодой артисткой и в прологе, и в цирковом водевиле «Счастливый отец», и в интермедии-репризе «Семейная драма».
Уже одно появление клоуна — студента первого курса Костеренко вызывает смех. Мы говорим о его выступлении в клоунаде А. Федоровича «Черная кошка». Умение правильно действовать в предлагаемых

Виктор Романов. Фото Л. Лазарева

На выпускном экзамене
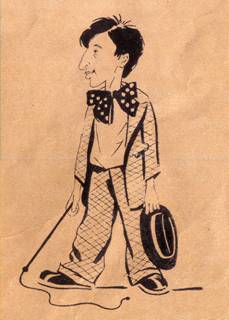
Леонид Енгибаров. Дружеский шарж Р. Черных
обстоятельствах и наивная вера в необходимость совершать именно то нелепое, что он совершает, обещают, что в дальнейшем из студента Костеренко выйдет незаурядный клоун. В забавном и своебразном представлении «Волшебный барабан», поставленном по мотивам народной сказки педагогом и режиссером А, Федоровичем, Костеренко сыграл роль умного, доброго солдата, ничего общего не имеющего с дураком из первой клоунады. Вот тут пойди и разберись, что делает Костеренко и что делать с Костеренко дальше? Во всяком случае, радует, что будущий артист чувствует себя равно свободным в разных жанрах и разных образах. Хочется верить, что в дальнейшем он найдет свой, одному ему присущий образ. А может, в чем-то уже и нашел.

Геннадий Васильченко и Марина Капитанова
Хочу особо остановиться на студентах Н. Ранневе и В. Аксентьеве, которые разыграли клоунаду Раскина «Острое дарование».
...Парикмахер хочет стать артистом и демонстрирует свои возможности перед директором некоего зрелищного предприятия, который бреется у него. Хорошо и убедительно сыграли Раннев и Аксентьев. У артиста Раннева задача была легче: автор дал ему много текста (даже слишком много). А у Аксентьева текста почти не было. Но если Раннев был одержим в своем желании стать артистом и демонстрировал свои возможности, то столь же убедительной была линия действия и у Аксентьева в роли директора. Хотя оба молодых человека выступали без грима, это не мешало нам воспринимать их игру.
В поведении на манеже студента А. Оразова сказалась некая ориентация на работу талантливого и своеобразного Акрама Юсупова. Что ж, ориентация вполне правильная. Но пока неясен образ Оразова.
Очень хорош В. Колобов в клоунаде «Озорник», в интермедии «Семейная драма» и в поистине концертном выступлении на балалайке. «Вот был бы« хороший коверный», — думал я. К сожалению, мало коверных клоунов показало нам цирковое училище на своих просмотрах.
Явная склонность к работе коверного у А. Николаева. Он превосходно движется, хорошо прыгает, по-настоящему комедиен, умеет вызывать смех и свободно держится на манеже. Но, к сожалению, ему не дали возможности показать себя в работе у ковра. Интересен характерный комик Г. Афанасьев.
К глубокому сожалению, на показе почти не было «белых» клоунов. Единственный — выпускник Г. Васин — еще не нашел своего образа, своей манеры поведения на манеже. Он не говорит, а пока еще вещает.
Но можно ли упрекать в этом молодого артиста, когда в наших цирках вообще почти нет «белых». Единственный «белый» новой школы, умный, убедительный и ироничный, — это Владимир Успенский. Я мучительно ищу другие имена, но найти не могу. Проблема «белого», как, собственно говоря, и проблема коверного, должна обеспокоить руководителей не только циркового училища, но и Союзгосцирка.
Нам кажется, что руководителям училища следовало бы подумать о том, чтобы некоторых молодых клоунов, которые выступают в буффонадных антре, «переключить» на жанр коверной клоунады. Конечно, механически это делать нельзя. Всего вероятнее, следующие наборы надо производить именно с этим расчетом.
В жанре коверного клоуна выступал Л. Енгибаров. В том, что он делает, очень сказывается влияние известного французского мима Марселя Марсо. Но грустный Марсель Марсо с белым мертвенным лицом несет в своем искусстве нечто декадентское, упадочное. Это пройденный этап в нашем искусстве. Надеемся, что в процессе своего роста Енгибаров откажется от слепого подражания.
Автор настоящей статьи обращается со словами благодарности к режиссерам и педагогам училища, которые отдали много сил воспитанию молодых клоунов. Это — А. Федорович, Г. Кадников, Л. Лемперт, М. Минаев, Б. Левинсон, С. Каштелян, Ю. Белов, А. Горькая. Они показали понимание того, как надо воспитывать молодых клоунов.
Но дальше следует заключительная часть статьи, которую, по ряду соображений, писать не хотелось. Как читатель уже догадывается, далее последует разговор о репертуаре.
Первое, о чем следует сказать в упрек почти всем пишущим, — это чрезвычайное многословие всего того, что было показано на просмотре 28 и 30 июня. Шелуха ненужных слов очень засоряет произведения, написанные для цирка, вытесняет пантомиму, трюки, столь необходимые в любой цирковой клоунаде или репризе, вытесняет поистине цирковые средства выразительности. Боже мой, сколько говорят наши клоуны! Сколько говорят наши коверные, которые в основном вообще должны молчать! Это многословие подменяет умение пользоваться цирковыми средствами выразительности.
Кто же виноват во всем сказанном выше? Мы, цирковые писатели. Репертуар создается для определенных исполнителей. Цирковой писатель должен учитывать индивидуальность того или иного клоуна, учитывать только ему одному присущие человеческие качества, актерские данные и возможности. Невозможно создавать то или иное произведение для цирковых клоунов без участия самих артистов. Тут, очевидно, надо поступиться авторским самолюбием, чтобы написанное нашло органическое выражение в творчестве того или иного артиста. Невозможно писать цирковые произведения «вообще».
Необходимо думать и творить для молодых клоунов в иной манере, чем ты писал когда-то или даже сегодня для клоунов, которые уже долгое время работают на манеже. Та подлинная правда, которую удалось найти педагогам и молодым исполнителям, «цирковая» правда, зачастую вступает в жестокий конфликт с написанным ранее репертуаром. И крах терпит репертуар. За примерами автор статьи далеко ходить не будет. В двух группах исполнялась моя маленькая клоунада «Чудесный парень». В написанном виде она выглядела прилично, но в исполнении была ужасна, Мне легче всего всю вину свалить на исполнителей и на режиссера Б. Левинсона. Но любовь к искусству цирка, уважение к работе артистов цирка и их режиссеров, да и, пожалуй, желание сделать нужные для себя выводы заставляют взять вину на себя. Почему я увидел убогость того, что написал? Дело даже не в многословии инабившей оскомину теме воспитания детей.

Клоуны были убедительны, когда они действовали независимо от текста, по заданному мной и режиссером сценарию. Но, как только начинался текст, я убеждался, что он не помогает действию и зачастую просто не нужен. Правда сегодняшнего исполнения столкнулась со штампом сценария. И это было грустной правдой для автора.
Ведь мог ту же самую тему о воспитании детей плохими родителями убедительно, немногословно, в подлинной цирковой манере решить Романов в интермедии «Семейная драма».
Как удивительно многословна, а от этого суетлива клоунада «Черная кошка»! И, несмотря на темп этой клоунады, правильный на первый взгляд, она оставляет впечатление чрезвычайной затянутости и в конце концов становится просто скучной. Кажется странным, что режиссеры и педагоги, воспитавшие новых клоунов, оказались, как и авторы, в плену старых традиций. Неудача постигла и Г. Кадникова в клоунаде «С огнем не играют». Это особенно удивительно, так как артист Г. Кадников — человек несомненно ищущий, находивший и находящий новое в том, что сам делает на манеже.
А сколько дидактики было в клоунадах и репризах! Сколько ненужных подчеркиваний того, что и так ясно зрителям!
И, наконец, о музыкальной эксцентрике. Этот жанр, пожалуй, один из наиболее трудных. Но и музыкальная шутка в исполнении Каждана и Попова, и «Жалобная книга», сценка, в которой заняты В. Каждан, В. Арьков и В. Баркалая, и фрагменты музыкальных этюдов, в которых заняты В. Карпенко и Баркалая, показывают нам, что преподаватель С. Каштелян ведет своих питомцев по правильному пути.
И еще. Я не знаю, к какому жанру отнести представление «Волшебный барабан», о котором говорил выше. Но, по-моему, из него можно сделать интересную цирковую пантомиму для детей, убрав многословие, обогатив ее средствами цирковой выразительности, а может быть, даже и пустив «миллион литров воды», как раньше писалось в цирковых афишах.
Трудны поиски нового. Тут наряду с победами возможны и просчеты и ошибки. И не мне упрекать тех, кто эти просчеты и ошибки допускает: у самого их есть немало. Ясно одно — вопрос воспитания клоунов в цирковом училище сдвинулся с мертвой точки и первые попытки увенчались успехом.
Наши интервью
На арене цирка я проработала около полувека как велофигуристка на проволоке и антипод. Четверть века занималась педагогикой. В числе моих воспитанников — велофнгуристы А. Александров, М. Журавлев, В. Шалов, И. Родчеико, А. Кузьминский, два моих сына — В. и А. Голубевы, 3. Скребенева, Р. Вербицкая. Е. Туникова, Н. Логачева, Олег Попов, И. Орлова, Л. Ромашкова и многие другие.
Это дает мне право утверждать, что молодежь я знаю хорошо. Я, конечно, очень люблю ее. И. когда о ней заходит речь, всегда чувствую прилив самых теплых чувств к ней.
Пользуясь случаем, хочу высказать ряд пожеланий.
Первое из них — никогда не забывать своих учителей. Хранить наши лучшие цирковые градиции, утвержденные многолетними трудами предшествующих поколений, непрерывно улучшать свою работу, повышать актерскую квалификацию, работать дружно, слаженно, всегда быть достойными членами коллектива,
Хочется пожелать нашей талантливой молодежи скромности, которой учил великий Ленин. Зазнайству и бахвальству в ее рядах надо объявить решительную борьбу.
Надо, чтобы молодежь постоянно помнила и о своих партнерах, жила со своими товарищами по работе единой, дружной семьей. Как все это важно в жизни циркового артиста! У нашей цирковой молодежи еще не изжито печальное, несвойственное нам, советским артистам, явление, представляющее пережиток прошлого, — пренебрежительное отношение к маленьким, незаметным, не известным зрителю работникам, которые являются прямыми и неизменными помощниками артиста, своим трудом содействующими успеху и эффекту номера.
От всей души хочется пожелать цирковой молодежи еще выше поднять славу советского цирка.
ЮЛИЯ ПОЛЬДИ
Журнал «Советский цирк» октябрь 1958 г.
